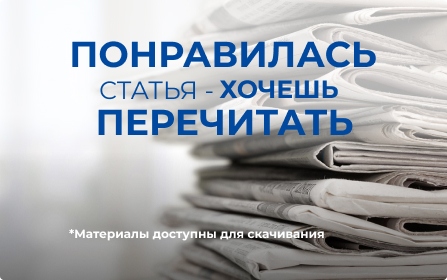Почему у казахов были хвостатые шлемы и копья?
Образ Исатая на памятнике в Орале отражает классическое представление о вооружении казахских батыров — в шлеме с конским хвостом и с «бунчужным копьем»
Теория практического применения «декоративных элементов»
Махамбет АУЕЗОВ
КЛАССИЧЕСКИЙ образ казахского воина-батыра – всадник, вооруженный копьем (пикой) с «бунчуком» - пучком конских волос, в коническом шлеме с торчащим из навершья еще одним «конским хвостом» (шашак). Оба пучка – на пике и на шлеме развевались на ветру. Таким, к примеру, запечатлен в камне Исатай-батыр (на фото) вместе со своим соратником Махамбетом на памятнике, установленном в городе Орал (ЗКО). Происхождение этих «хвостов» - плюмажа на шлеме и бунчука на копье – пока не нашло своего серьезного, академического исследователя. Во всяком случае, поиск в открытых источниках не дает нам ответ этот вопрос. Большинство исследователей просто описывают его, считая «декоративным» элементом, или полагая что эти хвосты могли также использоваться в качестве воинских знаков отличия (отрядов, званий) и элементов ориентировки на поле боя. Вместе с тем, есть ощущение, что такое применение этих элементов – скорее позднее переосмысление уже существующих элементов, чем источник их происхождения, потому как некоторые источники свидетельствуют о большой древности их применения, когда еще не сформировались современные представления об армии (и необходимости иерархических обозначений воинов). Есть также идеи мифологического характера, предполагающие, что волосы и перья на шлемах, а также бунчуки могли носить характер оградительной военной магии либо местом пребывания «духов войны» (сульде). Сопоставляя эти теории, а также обращаясь к отдельным античным источникам, мы приходим к выводу, что первоначальное применение этих элементов могло иметь сугубо практическое значение для степных воинов, которое сохранялось на протяжении всего применения традиционного вооружения, в частности, лука.
Изображения всадников в шлемах с характерными плюмажами и хвостатыми копьями (знаменами) встречаются еще на петроглифах, встречающихся повсеместно в Казахстане, а также в обширном пространстве Великой степи от Монголии и Дальнего Востока до венгерских Карпат и Кавказа. По датировкам они относятся к эпохе бронзы, раннему Железному веку. Есть и письменные источники, указывающие на использование конских хвостов на копьях, например, в «Ригведе», одном из древнейших текстов, дошедших до нас. Время составления «Ригведы» установлено примерно в промежутке 1700-1100 годов до нашей эры, относя его к Бронзовому веку. В этом собрании есть такие строки о битве Индры с драконом, где Индра, поражённый копьем этого существа, уподобляется конскому хвосту на копье:
«Конским хвостом тогда [ты] стал, о Индра,
Когда копьём пронзил тебя [дракон] бог единый;
Ты добыл скот, добыл сому, о герой,
Освободил течение семи потоков».
Считается, что это – старейшее указание на использование воинских знамен или «значков» в виде древка копья с конским хвостом (бунчуков). Далее, мы к ним еще вернемся, но пока позвольте перейти к «волосатым» плюмажам на шлемах.
Что касается казахстанских исследователей вооружения, то они либо ограничиваются описательным подходом, отмечающим наличие плюмажей на шлемах казахских воинов (например - А. К. Кушкумбаев, «Военное дело казахов в XVII-XVIII веках»), либо ищут мифологические корни этого явления. Так, к примеру, авторитетный казахстанский историк Ирина Ерофеева, рассуждая о султанах (речь идет не о представителях родовой аристократии, а именно о закрепленных на головных уборах элементах из перьев, конского волоса и других – «ДН»), отмечает, что они «выделяли… командиров отрядов из общей массы воинов», а затем останавливается на магических воззрения казахов касательно использования на шлеме перьев филина.
«…В течение более чем столетнего периода казахско-джунгарских войн в общественном сознании казахов произошла трансформация первоначальной защитной семантики образа ночных птиц семейства совиных, - отмечает она. - Они стали наделяться такой мощной сакральной энергией, что могли противостоять сокрушительной силе солярных птиц семейства ястребиных, традиционно являвшихся символами могущества и верховной власти в представлении многих кочевых народов Центральной Азии. В этом новом усилившемся значении филин приобрел символический статус магического покровителя полководцев-батыров, а его перья стали священным талисманом, приносящим военную удачу и сохраняющим жизнь во время сражений». В этом смысле перья филина у казахов представлялись, как обереги, которые «спасают от неприятелей, колдунов, пули и стрелы заколдованной», и противопоставлялись «магии» птиц семейства ястребиных, традиционно являвшихся символами могущества и верховной власти в представлении ойратов, монголов и джунгар.
Кстати, у последних навершья на шлемах и головных уборах в позднее время, особенно с принятием буддизма и установлением тесных отношений с Китаем, превратились в систему обозначения иерархического положения своих носителей. В целом же, обычно считается, что плюмаж, особенно, из довольно жестких волос, как конские, имел практическое применение для смягчения сабельных ударов по голове (шлему). Это имеет смысл, поскольку коническая форма шлемов действительно рассчитана не только на жесткость, но и на то, что наносимый удар будет «съезжать» по его форме, что усиливало защиту головы. Правда, конкретно в отношении плюмажей их лошадиных хвостов (по-казахски они назывались «шашак») это не совсем работает, в силу того что, они, во-первых, слишком длинные, что лишает их упругости при оказании сопротивлению удару холодным оружием, а, во-вторых, в обычном состоянии отводились назад, откуда воин обычно ударов не получал.
В итоге, известный российский историк оружия Бобров (Новосибирский государственный университет) в своей статье «Шлемовые плюмажи и значки на копьях, как маркер казахской военной элиты эпохи позднего Средневековья и раннего Нового времени» отмечает: «Вещественные, изобразительные и письменные источники эпохи Средневековья и раннего Нового времени фиксируют факты применения кочевниками Евразии различных типов плюмажей, а также значков на боевых копьях. Несмотря на обилие источников, данная тема ни разу не становилась объектом специального научного исследования, основанного на комплексном анализе источников. В связи с тем, что органика плохо сохраняется в погребениях, мнение археологов, оружиеведов и военных историков по предмету длительное время основывалось преимущественно на анализе иконографии, которая сама по себе дает представление о форме и (реже) материале плюмажа или значка, но редко позволяет понять его социальное назначение. Как правило, учеными фиксировался сам факт использования номадами перьевых или волосяных султанов, копейных бунчуков, бубенчиков, лент и флажков, причем эти элементы рассматривались почти исключительно, как декоративные украшения. Однако даже первичный анализ профильных материалов позволяет утверждать, что определенные типы плюмажей и копейных значков применялись воинами Великой степи отнюдь не бессистемно. На это указывают письменные и фольклорные источники, которые помогают расшифровать назначение того или иного, якобы «сугубо декоративного» предмета в составе костюма или комплекса вооружения. Сопоставление различных видов источников, позволяет сделать вывод о том, что в целом ряде кочевых сообществ эпохи Средневековья и Нового времени существовали своеобразные «иерархии» плюмажей и копейных значков. На это же указывает и средневековая иконография. На картинах, изображающих тюркскую и монгольскую знать эпохи раннего и развитого Средневековья лица, стоящие на разных социальных ступенях, носят на головных уборах и шлемах плюмажи, которые существенно различаются между собой по конструкции, составу и системе оформления. Значительным своеобразием отличаются и изображенные на миниатюрах копейные значки воинов, действующих в составе одного воинского отряда. Есть основания полагать, что рассматриваемые в статье элементы, помимо эстетической, несли и определенную социально-политическую (а в случае с копейными значками и военную) нагрузку. В пользу данной версии свидетельствуют многочисленные сообщения современников, датированные эпохой позднего Средневековья и раннего Нового времени. Особый интерес в данной связи представляют плюмажи и копейные значки казахских воинов XVI-XIX вв., военное искусство которых впитало в себя многие элементы военно-культурных традиций тюркских кочевников Центральной Азии более ранних эпох».
Впрочем, он же подробно разбирая систему иерархических и этнических обозначений головных плюмажей у монголов и маньчжуров, приводит нас к мысли о том, что это более свойственно именно народам тунгусо-маньчжурской группы на позднем этапе Средневековья, когда речь шла о развитом государственном строительстве: «Судя по данным вещественных, изобразительных, письменных и фольклорных источников XV-XIX вв. плюмажи на шапках и шлемах жителей Южной Сибири, Центральной и Восточной Азии данного периода могли служить символом принадлежности их носителей к определенному племени, этносу, государству, социальной или религиозной группе, а в некоторых случаях фиксировали место воина, аристократа или чиновника в военной и придворной иерархии. Данный принцип наиболее ярко отражен в сильных централизованных государствах Центральной и Восточной Азии, правители которых стремились унифицировать не только систему государственного управления и налогообложения, но и внешний вид своих подданных. Классическим примером данного явления являются регламенты Цинской империи (1644-1911)».
«В отличие от маньчжуров и ойратов у казахов XVII-XVIII вв. не было единого типа плюмажа, который можно обозначить в качестве «этнического» или «государственного» маркера, - признает Бобров. - Казахские плюмажи рассматриваемого периода отличаются значительным разнообразием. Они представлены султанами из конского волоса, кистями из шнуров и матерчатых лент, одинарными или парными кисточками на шнурках, перьевыми султанами, флажками-«яловцами» и др. Тем не менее, представляется возможным выделить определенные закономерности в системе плюмажей, применявшихся на головных уборах и шлемах казахских воинов». Отсутствие единого унифицированного «государственного» или «этнического» типа плюмажа (аналогичного маньчжурскому «чжувэй» и ойратскому «улан зала»), в Казахстане XVII-XIX вв., которое фиксирует Бобров, скорее всего означает, что это использование вторично по отношению к исследуемому предмету, то есть оно возникло уже позднее, как переосмысление уже существовавшего явления.
Отмечая свой «значительный интерес», который для него «представляют казахские шлемовые плюмажи», Бобров приходит к выводу, что «казахские шлемовые султаны представляют собой особую разновидность плюмажей степной элиты и наиболее состоятельных кочевников» и имеют следующие разновидности: «Казахские шлемовые плюмажи были представлены перьевыми султанами («жыга»), флажками («жалау») и кистями из лент и конского волоса («шашак»)». Далее он также переходит в описательную часть, оставляя за скобками вопрос происхождения этих вещей, и настаивая на их практическом применении лишь в качестве визуальных маркеров статуса и подразделения. В этом плане он больше сосредотачивается на перьевых плюмажах, которые, по его выводам, «принимая во внимание данные казахского эпоса… перьевые султаны были широко распространены среди военной элиты Великой степи задолго до XVII-XIX вв». Говоря о практической стороне такого выбора, исследователь отмечает внешние характеристики этого предмета: «Вероятно, одной из причин, обусловивших популярность султанов из перьев филина среди представителей высшей феодальной и военной знати Великой степи, была их красота и воздушная пышность. Собранные в пучок легкие светлые перья, покрытые черными пятнами и полосами создавали исключительный декоративный эффект и были видны даже с большого расстояния».
«В эпоху позднего Средневековья и раннего Нового времени перьевой султан из перьев филина получил дополнительную смысловую нагрузку, превратившись в своеобразный маркер профессиональных воинов-батыров, составлявших костяк казахской военной элиты XVII-XVIII вв. Перьевые плюмажи носили и представители высшей степной аристократии (ханы, султаны), считавшие честью добавить к своему имени титул «батыр». По замечанию К.С.Ахметжана проанализировавшего данные казахского эпоса: «В фольклорных источниках «жыга» - особый отличительный знак знатных батыров, султанов, ханов. Казахские ханы носили на своих головных уборах такие золотые джига, как знак их высокого достоинства. Парадные джига украшались цветными камнями и золотом» (Ахметжан, 2007, с. 157). По мере того, как уходили в прошлое ожесточенные войны с кочевыми соседями, снижалась и популярность перьевых плюмажей. Однако, султан из перьев филина сохранился до этнографического времени на шапках казахских охотников-«беркутчи», - резюмирует свои рассуждения по перьевым плюмажам-султанам Бобров.
Крупный энтузиаст и исследователь казахского оружия, Ахметжан, отмечает, что «со временем кисть шашак из конского волоса или шелковых нитей [на навершии шлема] стал отличительным знаком профессионального воина-батыра». «Судя по дошедшим до нашего времени плюмажам из конского волоса и шерсти яка, пучок волос скреплялся нитью или клеем и уже в собранном виде вставлялся во втулку шлема. При надевании чехла на купол шлема, плюмаж вынимался из втулки, а во время праздничных и торжественных церемоний мог заменяться на свой более пышный «парадный» аналог... Значительное распространение имела практика окрашивания волосяного плюмажа в красный цвет», - отмечает Бобров.
Он фиксирует противоречие между мнениями Ахметжана и Ерофеевой по поводу того, является ли характерным для казахских батыров использование перьев или конских «хвостов», но «мирит» их за счет предположения о том, что «не стоит исключать тот вариант, что существовала определенная иерархия плюмажей внутри сословия батыров». «Возможно, что волосяные кисти были отличительным признаком всех выдающихся казахских воинов, удостоенных титула «батыр», в то время как ношение султанов из перьев филина являлась прерогативой батыров-предводителей отрядов», - предполагает российский исследователь. Ответа на вопрос о собственном происхождении и изначальном практическом применении волосяных плюмажей на шлемах казахов и других кочевников, он не дает.
Зато он делает важный, на наш взгляд, шаг, объединяя исследование о плюмажах на шлемах со «значками» на копьях, большинство которых также изготавливали именно из конских волос (хвоста, гривы). «Другим важным маркером казахской военной элиты были значки на копьях. К их числу относятся копейные бунчуки и флажки, - отмечает он. - Копейный бунчук представлял собой кисть из конского волоса, шерсти яка или узких матерчатых (часто шелковых) лент, которая подвешивалась к наконечнику или древку пики. Следует различать войсковые бунчуки (конские хвосты на древке) и их копейные аналоги. Первые утратили собственно боевую функцию, превратившись в символ власти военачальника, или знамя воинского подразделения. Вторые, представляли собой элемент оформления длиннодревкового оружия воина-кочевника. В казахских войсках XVII-XIX вв. войсковые и копейные бунчуки применялись параллельно».
Основываясь на исторических описаниях и изображениях, Бобров выделяет некоторые особенности их конструкции и оформления: «Предназначенные для изготовления бунчука полосы шелка, сукна или парчи разрезались на узкие длинные ленточки, которые собирались в пучок и фиксировались специальным зажимом. Конский волос и шерсть яка перед тем, как собрать в пучок, иногда окрашивали в красный цвет. Так же применялись бунчуки, собранные из хвостов вороных и белых лошадей. Существовало два основных способа подвешивания бунчука к копью или пике. В первом случае, кисть проклеивалась и приматывалась матерчатым или кожаным жгутом непосредственно к древку, часто, охватывая его со всех сторон. Иногда, конец кисти срезали под прямым углом, а образовавшийся «купол» из конского волоса или лент крепили непосредственно под втулкой наконечника. Во втором случае, кисть стягивалась и фиксировалась специальным металлическим, костяным, деревянным или кожаным зажимом и подвешивалась к древку на более или менее длинном шнурке или ремешке. Как правило, весь бунчук оформлялся в одной цветовой гамме. Преобладали кисти из черного конского волоса или черных шелковых лент. Также встречались экземпляры белого, или красного цвета. Судя по узбекским материалам, иногда применялись составные двухцветные бунчуки. Верхняя кисть выполнялась из крашеной в красный цвет шерсти яка, а нижняя сохраняла естественный белый цвет. Размер копейных бунчуков существенно варьировался от миниатюрных кисточек («шашак»), до целых конских хвостов («байрак»)».
Впрочем, как и со шлемами, Бобров приходит к тому, что «изучение и сопоставление вещественных, изобразительных и письменных источников позволяет сделать вывод, что в отличие от войсковых бунчуков их копейные аналоги не являлись у казахов символом воинского подразделения или знаком власти военачальника». «Судя по данным иконографии, их применяли, как выдающиеся батыры и представители родоплеменной знати, так и отдельные ополченцы. Можно согласиться с предположением К.С.Ахметжана, что «кисть из конского волоса или шелковых шнурков» являлась «отличительным знаком воинов». Однако применяли такую индивидуальную метку далеко не все степные копейщики. В киргизском эпосе «Манас» даже существовал особый термин «тупектуу найза» обозначавший «копье с бунчуком» (Бейбутова, 1995, с. 130). Возможно, что кисть на древко пики мог позволить себе воин заслуживший почет и уважение со стороны своих соратников. В пользу данной версии говорит тот факт, что самые большие «байрак» на копьях имели самые заслуженные воители и представители феодальной знати. Возможно, такой пиетет к большим бунчукам восходит к почитанию знамен Чингизидской аристократии представлявших собой увенчанное трезубцем древко с большим бунчуком из нескольких конских хвостов».
При этом Бобров отмечает, что именно в казахской среде распространенность копий с «конскими хвостами» достигла максимума: «Среди любителей военной истории распространено мнение, что копейные бунчуки применялись кочевниками всех эпох, широко и повсеместно. Это не совсем так. Популярность копейных бунчуков у тюркских кочевников возрастала постепенно на протяжении раннего и развитого Средневековья. Ее пик пришелся на XVII-XIX вв. Наибольшее число изображений и подлинных копейных бунчуков содержат казахские материалы данного периода. Широкое распространение бунчуки из конского волоса и матерчатых лент имели также у кыргызов, узбеков, волжских калмыков и башкир». Касаемо практического применения «хвостатых» копий, Бобров принимает такое объяснение: «Что касается малых копейных кистей («шашак»), то они имели, помимо прочего и собственно военное назначение. Во время копейного удара кисть отвлекала внимание противника от направления движения наконечника».
Из других попыток вариантов объяснения установки конского хвоста на верх древка копья, чаще всего встречается версия о том, что волосы впитывали в себя кровь пораженного копьем человека или животного, предохраняя древко от стекания ее к рукам. Вот что мы встречаем по этому поводу в источниках по копьям: «Помимо наконечника, копья имели султан - цветной развевающийся на ветру хвост обычно из конских волос, который крепился вблизи наконечника и служил не только украшением, но и для впитывания и задержания крови, льющейся из раны противника на древко. Испачканное в крови древко скользило бы в руках, не позволяя нанести точный и сильный удар. Той же цели - предохранению руки от скольжения по древку - служил выступ, располагавшийся в районе центра тяжести копья и способствовавший более устойчивому удержанию копья во время боя». Эту версию чаще всего подхватывают и наши энтузиасты. «Казахские копья отличались от остальных именно тем, что на них крепились конский хвост или грива. Они служили не только в качестве отвлекающего манёвра, но и выполняли практическую функцию. Пот и кровь с наконечника копья не стекали к рукам воинов, а задерживались на конском волосе. Таким образом копьё не скользило, и батыры крепко держали его в руках», - описывают это в статье о выставке исторического оружия в Петропавловске. В интернете можно встретить и более экзотические теории на счет хвоста на копье – чтобы не пугать свою лошадь видом металла (наконечника копья).
Другие исследования фокусируются на церемониальной роли такого оформления. К примеру, российский историк А.П. Окладников считал, что «навершия» являлись древнейшими знамёнами. Из других объяснений, встреченных в открытых, научных (и не очень) источниках, приведем такое объяснение, как использование «хвостатых копий» для психологического воздействия на врага. Правда, в больше степени это относится к уже точно превратившимся в знамена драконье- и волчьеголовые бунчуки. «Возможно, что психологическую атаку дополняли и некоторые виды знамён, которые использовали как в древности, так и в средневековье, - отмечают сторонники этой версии. - Так, в изобразительных материалах эпохи средневековья, как уже отмечалось, представлены знамёна, увенчанные драконьей головой. Как воплощение страха дракон был популярной эмблемой воинов на протяжении длительного времени». Такие знаки были зафиксированы в армиях Ахеменидов, Македонии, Древнего Рима и его противников – даков, сарматов, роксоланов, аланов, кельтов и германцев.
Римский историк Флавий Арриан описывает такие «бунчуки» кочевников античности и их применение: «Скифские военные значки представляют собой драконов, развевающихся на шестах соразмерной длины. Они сшиваются из цветных лоскутьев, причём головы и всё тело вплоть до хвоста делаются наподобие змеиных, как только можно представить страшнее. Выдумка состоит в следующем. Когда кони стоят на месте, видишь только разноцветные лоскутья, свешивающиеся вниз, но при движении они от ветра надуваются так, что делаются очень похожими на названных животных и при быстром движении даже издают свист от сильного дуновения, проходящего сквозь них. Эти значки не только своим видом причиняют удовольствие или ужас, но и полезны для различения атаки и для того, чтобы разные отряды не нападали один на другой».
Впрочем, как и в случае с Ерофеевой по поводу шлемов, есть и сторонники магического объяснения происхождения «бунчужных копий». К примеру, известный художник и исследователь Ю.Н. Рерих приводил поверье одного из кочевых племён северо-восточного Тибета о том, что за командиром отряда, идущего в набег, возят отдельное копье, значительно длиннее обычного копья кочевников, которым вооружены отдельные всадники. Под навершием копья прикрепляется пучок конских волос или освящённый кусок материи. Такое копьё почитается обиталищем гения (духа, джинна – «ДН»)-хранителя войны». Аналогичным образом, монголы считали бунчуки местом обиталища сульде («духов»), что сегодня вылилось в церемонии поклонения знамени, практикуемой в Монголии. Так, ежегодно в Центральном аймаке Монголии на вершине горы Агуйт проводится ежегодное государственное поклонение общевойсковому черному бунчуку «Хар Сулд», который является главным символом вооруженных сил Монголии.
Какое же новое объяснение может быть применено к массовому использованию пучков конского волоса на шлемах и копьях казахов, а также многих поколений кочевников до них? Оно базируется на практической необходимости для лучной (а вообще и любой) стрельбы… ветроуказателей (флюгеров). Даже сегодня на стрельбищах мы часто можем встретить вертикальные столбики, на которые повязаны обычно ленточки из легкой ткани, которые развеваются на ветру, давая стрелкам информацию о том, в какую сторону и насколько делать поправку на ветер. Это – крайне важная информация для того, чтобы сделать точный выстрел даже из огнестрельного оружия, для стрелка из лука направление ветра была еще более важным, поскольку стрелы куда более подвержены его воздействию. Вот и приходилось стрелкам носить ветроуказатели всегда с собой – прямо на поле боя. Собственно, копье с пучком волос – это и есть едва ли не лучший вариант ветроуказателя. Та же самая вертикальная жердь, а в роли указателя направления – пучок конских волос. В крайнем случае, пойдет и шлем с плюмажем. Возможно, мягкие перья филина, отличные от более жестких у других птиц, также играли эту же роль.
Вспоминаются кадры знаменитого фильма «Форд против Феррари», где для определения обтекания автомобиля воздухом мы видим, что пучки шерсти используют до сих пор. В ситуации, когда главным оружием кочевников был именно лук и его массовое применение, наличие столь же массового присутствия ветроуказателей в виде шлемов и копий соратников, могло играть ключевую роль не только для прицельной, но и для стрельбы «по площадям». Понятно, что массы всадников все время маневрировали, но и тут современники всегда указывали на необъяснимую точность попаданий стрел конных лучников, которую вряд ли можно обеспечить без учета поправки на ветер. Те, кто стрелял в степи, наверное, согласятся с нами – сделать удачный выстрел при боковом ветре крайне затруднительно, а запас стрел у кочевников был крайне ограничен. В колчаны кочевого образца помещалось от 30 до 60 стрел, и воины старались расходовать их крайне экономно, хотя умели стрелять очень быстро, а, значит, точность выстрела была для средневековых конных лучников важнейшим показателем. Так что такая распространенность хвостатых копий и шлемов может быть объяснена именно необходимостью корректировки лучного боя, основы военной тактики кочевого войска. Такое объяснение выглядит достаточно логичным и действительно может объяснить их появление и широкое распространение среди казахов и других кочевников.